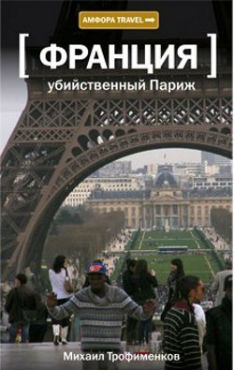Літературний дайджест
Виктор Топоров о книге Михаила Трофименкова: Основной инстинкт парижанина
Только что вышедшая книга Михаила Трофименкова «Убийственный Париж» имеет (наверняка от издателя) жанровый подзаголовок «роман».
Это, разумеется, рекламная уловка – но, однако, вполне уместная. «Убийственный Париж» и впрямь читается как роман – залпом, - причем как роман бульварный. Но это на первом, на низовом, на базовом уровне.
Вы ведь помните, что название знаменитого фильма, в котором «делает ножкой» Шэрон Стоун, можно перевести как «Основной инстинкт», а можно и как «Базовый инстинкт». Кровь и любовь так часто и так лихо рифмуются прежде всего потому, что это – воистину значащая рифма; роман вора и проститутки – ключевой сюжет мирового кинематографа (да и театра тоже, сказал мне однажды Кама Гинкас); пока не требует бельгийца к священной жертве Аполлон, нет отвратительней убийцы, чем Жорж-Паскудник-Сименон, и так далее. Тут вам и бандитский Париж, и воровской Париж, и сутенерский Париж, и наркотический Париж, и литературный Париж, и революционный Париж, и политический Париж, и великосветский Париж, и далеко не в последнюю очередь полицейский Париж – девять в одном. «Пойми, ведь я не Стикс, чтоб приказать: «Остынь!», семижды заключив тебя в свои объятья», - заклинал «еврейку бешеную» парижский наркоман Шарль Бодлер устами искушенного советского переводчика. Издание вышло в академических «Литпамятниках» с подробными комментариями – и, в частности, строка о семикратном половом акте была снабжена примечанием: «В подлиннике – девять раз»... Что ж, автор рецензируемой книги на подобные преуменьшения не идет из принципа – и тем увлекательнее становится его бульварный рассказ.
Но это, повторяю, низовой уровень восприятия, тогда как книга Трофименкова по-постмодернистски (в хорошем смысле слова) многослойна – и самое интересное в ней на четвертом и на пятом снизу уровнях, а самое спорное (но, может быть, и главное) – на шестом и на седьмом. На первом снизу – проглатываемый буквально за три часа бульварный рассказ о том, как, по старому советскому анекдоту, «разлагается» Париж - и как он замечательно при этом пахнет. На втором снизу – своеобразный путеводитель по Парижу (типа популярных у нас прогулок по местам Достоевского): в этом округе убили такого-то, здесь подорвался на собственной бомбе террорист, этот вот банк обокрал его собственный владелец, дальше по улочке – кафе, в котором полицейские по ошибке пристрелили полицейских из соперничающей силовой структуры, дальше Лувр, в котором подлинников не больше, чем в Эрмитаже, потому что тащат из обоих музеев с пугающей регулярностью, дальше мост Мирабо, с которого в Сену сигают отнюдь не только самоубийцы, и сразу за ним – бордель, владелец которого зарезал законную жену из ревности к ее бывшему сутенеру – к одному из тех ложно победительных парижских сутенеров, с которыми всю жизнь якшался любовник десяти тысяч женщин, сообщник десяти знаменитых бандитов, осведомитель десяти знаменитых сыщиков, убийца и фактический братоубийца, антисемит и беглый (сначала в Америку, потом в Швейцарию) нацистский пособник, большой друг Советского Союза бельгийский писатель Жорж Сименон.
Этот – второй снизу – уровень снабжен своего рода гиперссылками: если о каком-нибудь персонаже упоминается лишь вскользь, а дальше или раньше о нем рассказывается подробнее, то номера соответствующих страниц приведены в скобках. Это – а также вполне допустимая возможность читать рассказы о преступлениях, совершенных там или тут, с любого места и в любой последовательности, превращает книгу, как отмечает ее автор, в подобие поздних романов Хулио Кортасара («Игра в классики» и «1962. Модель для сборки»). Кортасар, кстати, и сам провел в Париже в сознательном возрасте больше времени, чем в родном Буэнос-Айресе. Про Трофименкова этого, конечно же, не скажешь, но и сам Париж, и литературу о нем, и, разумеется, кинематограф он, культовый петербургский кинокритик, изучил досконально. На третьем снизу уровне речь идет как раз о фильмах, посвященных «убийственному Парижу» (рассказ о каждом округе заканчивается соответствующей главкой), - но вскользь и впроброс, я бы даже сказал, демонстративно вскользь и вызывающе впроброс, - и так происходит, конечно же, не случайно. Во-первых, о французском кино (в том числе и кино соответствующего типа) Трофименков много и подробно писал, - скажем, в «Коммерсанте» - и уже собрал написанное в несколько книг, не все из которых изданы. А во-вторых… А во-вторых и в главных…
А во-вторых и главных, Михаил Трофименков давным-давно перерос ту газетную поденщину, имя которой кинокритика (в том числе, историческая кинокритика в том же «Коммерсанте»). Он писатель, яркий и оригинальный писатель; ему бесспорно присущи многие из первостепенно необходимых писателю качеств: замечательная наблюдательность (помноженная в его случае на уникальную эрудицию), умение тянуть и распутывать нить сложносочиненного и сложноподчиненного повествования, выверенно прекрасный слог и удивительный стилистический, в том числе и синтаксический напор… Отказавшись от палочки-выручалочки кинокритики (и истории кино), Трофименков тем самым заявляет граду и миру: хренушки вам! Никакой я не кинокритик. Я писатель… И, прочитав «Убийственный Париж», я с восхищением констатирую: да, писатель!
Вернемся, однако, к рецензируемой книге. Ее четвертый и пятый (снизу) уровни чрезвычайно актуальны и поучительны. И представляют они собой, соответственно, урок истории и урок географии. На уроке истории нам рассказывают, что французы всегда французы (последние сто пятьдесят лет как минимум): выпивохи, сластены, бабники (или геи), любители пожить на широкую ногу – любители шикануть, да и ширнуть тоже. А еще они воры, жулики, пройдохи, взяточники, коррупционеры, коллаборационисты, «плохие лейтенанты» и столь же неважные двойные и тройные агенты. А еще – революционеры, анархисты, бомбисты и, как говорят сегодня, террористы. И ничего, ну, буквально ничего, в этом плане не меняется. И особенно поучителен подурок по всеобщей некомпетентности: не блестящие сыщики ловят и никак не могут поймать еще более блестящих «Врагов Номер Один», а как бы не прямо наоборот: тупые или в лучшем случае туповатые «комиссары Мегрэ» охотятся на столь же нелепых и неуклюжих преступников – как уголовных, так и политических – или же затевают свои «ментовские войны»; хуже того, именно полная профнепригодность как полицейских, так и воров побуждает их к тесному, подчас взаимовыгодному, однако сплошь и рядом – взаимоневыгодному сотрудничеству.
Географический урок вытекает из исторического: мы-то думали, что только у нас дело обстоит так. Обстоит сейчас – и обстояло сто лет назад. А вот ведь, оказывается, «дело не в простом расчете, дело в мировом законе» (Борис Слуцкий). Детализировать этот тезис не буду - перечитайте внимательно предыдущий абзац или, лучше, прочтите «Убийственный Париж» Трофименкова.
На шестом уровне – перед нами рассказ человека влюбленного. Человека, влюбленного в Париж и влюбленного в убийственный Париж, человека, влюбленного в те социальные язвы, библейские пороки и феерические бытовые гнусности, которые он описывает. Что ж, это своеобразная разновидность «стокгольмского синдрома»: автор становится заложником материала, иначе говоря, его берут в заложники собственные персонажи – и он проникается к ним сочувствием и любовью. Не стану, впрочем, строить из себя ханжу; не будь этой влюбленности, не было бы и книги, вернее, она не была бы столь хороша.
На седьмом уровне Трофименков в крайне несовременном, в крайне немодном ключе (что само по себе становится новаторством) трактует остро злободневную тему терроризма – и как морально все же оправданного оружия слабых, и в еще более определенной мере – как инструмента тонкой настройки общественных механизмов даже в условиях буржуазной демократии (а ведь во Франции буржуазная демократия то и дело оборачивается полудиктатурой). Это, разумеется, не апология терроризма – и, ясен пень, не пропаганда терроризма, - но столь редкая в наши дни попытка посмотреть на него и на его носителей непредвзято. Спорная попытка; на мой взгляд, справедливая, - но никто, конечно же, не обязан ни со мной, ни с автором «Убийственного Парижа» соглашаться.
В заключение почерпнутая из книги прелестная байка из жанра «про суд присяжных» - специально для наших кудесников жанра. Судят доктора Петио - изверга и убийцу, французского собрата доктора Менгеле. Знаменитый адвокат восклицает на процессе:
«В конце концов, мой подзащитный - не первый врач, у которого умирают пациенты!»
Публика рукоплещет...Правда, врача-убийцу все же приговаривают к смертной казни и гильотинируют. А через пару лет – и по совершенно другому поводу (хотя тоже как нацистского преступника) надолго упекают за решетку и знаменитого адвоката.
Виктор Топоров